


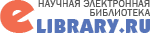




Об авторе
Статья представляет собой редакционное введение в основную тему данного номера журнала – университет, его прошлое и настоящее. Выбирая тему «Мои университеты», редакция вкладывала в нее и буквальный, и метафорический смысл. С одной стороны, университет как социальный институт, как universitas magistrorum et scholarium, а с другой, университет как «школа жизни». В статье очерчен круг проблем, актуальных для современного состояния университетского образования, но уходящих своими корнями в давнюю, в том числе – средневековую, историю европейских университетов. Назовем некоторые проблемы: возникновение новых центров образования, взаимоотношения университетской корпорации с властями, университет в социокультурном пространстве города, сотрудничество и конфликты внутри самого университетского сообщества, соотношение локальных (национальных) и наднациональных (универсалистских) тенденций в ходе длительной эволюции университетов, характер и содержание университетского образования. Авторы статьи обращают внимание и на другой фактор – связь изучения и понимания истории университетов с ведущими тенденциями развития самого исторического знания. Повышенный интерес к проблемам университетской жизни объясняется отнюдь не только празднованием «юбилейных дат», как это было в прошлом году в Ростове-на-Дону, но и вниманием современной науки к «реально» существовавшим корпорациям, развитием интеллектуальной и персональной истории. Статьи данного номера журнала, как надеется редакция, будут способствовать постановке и дальнейшему изучению нерешенных или дискуссионных проблем истории университетов, равно как и осмыслению самого феномена университета как изменчивого постоянства.
Говорят, что в Европе существуют 64 учреждения, которые остались в значительной степени не изменившимися за последние 500 лет. Они включают в себя Парламент Исландии, Римскую католическую церковь и 62 университета.
Питер Вест [Вест, 1997 с. 9]
Одной из проблем, на которых было сфокусировано внимание в редакционной статье первого номера нашего журнала, была утрата профессиональными историками монополии на повествование о прошлом [Апрыщенко и др., 2016, с. 14]. Естественно, это не может не тревожить ученых, осознающих свою ответственность перед обществом, нуждающимся в истории, даже если оно не всегда это осознает. Данная социальная потребность, слабо рефлексируемая в спокойные и успешные периоды, становится острой, когда почва начинает уходить из-под ног. «Всякий раз, – писал Марк Блок, – когда наши сложившиеся общества, переживая беспрерывный кризис роста, начинают сомневаться в себе, они спрашивают себя, правы ли они были, вопрошая прошлое, и правильно ли они его вопрошали» [Блок, 1986, с. 7]. Но если общество не получает отклика на свои вопрошания от профессиональных историков, оно неизбежно найдет иных претендентов на роль медиаторов в общении с минувшими поколениями. И историки стали задумываться: что не так в нашей профессиональной корпорации, почему мы утрачиваем доверие общества? Но такая постановка проблемы делает неизбежным вопрос о нынешнем состоянии и будущности университетов, поскольку историки – это один из тех профессиональных цехов, чье существование просто немыслимо вне прямого или хотя бы опосредованного контакта с университетской корпорацией. И в этой связи возникает вопрос, по-новому высвечивающий тезис, вынесенный в эпиграф. Готовы ли к вызовам наших дней современные университеты, которые уже сегодня, как считают многие, не являются безусловными лидерами в науке, а в будущем «составят лишь часть и, возможно, лишь малую часть сектора производства знаний» [Gibbons et al., 1994, p. 85]? И такое ли уж благо в этих обстоятельствах – устойчивость университета к переменам?
Ответ на эти вопросы кроется в теме данного выпуска, точнее – в содержащейся в ней литературной аллюзии. Выбирая тему «Мои университеты», мы вкладывали в нее и буквальный, и метафорический смысл. Безусловно, нас как профессиональных историков волнует судьба академической корпорации и университета как социального института. Но в ничуть не меньшей степени нам близко и дорого понимание университета как метафоры «школы жизни». И хотя аббревиатура LLL (1) возникла менее полувека назад, имплицитно эта идея существовала всегда. Выпускники университетов по большей части (разумеется, исключения случаются, но они не отменяют правила) с благодарностью и трепетом относились к университету как к Alma mater, вскормившей их матери, осмысливая свой дальнейший жизненный путь как прямое продолжение и развитие того, что было обретено в годы студенчества. Таким образом, «университетская история» неизбежно и органично входит в контекст столь востребованной сегодня персональной истории.
Но если мы обратимся к первоисточнику темы данного номера журнала – автобиографической повести А.М. Горького, то увидим, что в нем заложен несколько иной смысл. Лейтмотивом книги является чувство обиды автора на судьбу и общество за то, что ему не было позволено воплотить в жизнь свою самую заветную мечту. Сам Горький пытался убедить и себя, и читателя, что ничуть не жалел о таком повороте судьбы, а его «университеты» нисколько не хуже, если не лучше, «настоящих». Во многих своих очерках и эссе он вполне определенно указывал на то, чтó стало для него полноценным заменителем (как казалось самому Горькому) учебы в университете: «Любите книгу – источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать нас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренно любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться прекрасными плодами его непрерывного великого труда» [Горький, 1949, с. 82].
Вдумаемся, однако, так ли уж органична и самодостаточна эта воспетая Горьким любовь к книге? Действительно ли книга сама по себе, без наставника, без систематического и упорного процесса обучения, может «образовать» человека? Не спорим, это получилось у самого Горького, но всегда ли плоды самообразования столь же достойны? Нынешние критики университетов и «официальной науки», как и их предшественники, не желают понять того, что знание само по себе, полученное вне ментального контакта между учителем и учеником, вне общения внутри интеллектуального сообщества – корабль без руля и ветрил. Как верно заметили Э. Офир и С. Шэпин, прошло уже то время, когда могло казаться, будто «научные идеи витают в воздухе». В действительности, «идеи, становясь научной истиной, обретают плоть и кровь: они облекаются в телесные формы человеческой культуры в привязке к конкретному времени и месту» [Ophir, Shapin, 1991, p. 3]. Подчеркнем, что «телесность» в отношении «мест знания», и в первую очередь – университета, имеет не только метафорический, но и буквальный смысл. Их базисным элементом являются сами люди, производящие, хранящие, транслирующие и потребляющие знания, а университет был и остается сообществом обучающих и обучающихся. И в этом своем качестве он является не только субъектом производства знания, но и объектом исследовательского интереса.
Пристальное и все возрастающее внимание к истории и современному положению университетов в различных странах, несомненно, объясняется не только празднованием «юбилейных дат», как это было в минувшем году в Ростове-на-Дону, но и причинами более общего характера, как социокультурными, так и связанными с эволюцией самого гуманитарного знания.
В частности, следует заметить, что в последние десятилетия ХХ в. все большее значение приобретает изучение интеллектуальной культуры, которая, по выражению Л.П. Репиной, стала «маркером исторической эпохи», а интеллектуальная история – важнейшим направлением новейшей историографии. В числе интересующих ее проблем «история образования, включающая анализ обучения, исследования профессорской и административной деятельности, размещение ресурсов, политическую и интеллектуальную среду, дисциплинарную структуру и т.д.» [Репина, 2011, с. 369]. Поэтому вполне естественно, что исследование различных аспектов истории университетов стало весомой частью комплексного изучения интеллектуальной традиции (2).
Вероятно, следует сказать и о другой тенденции в развитии исторического знания. Прежняя социальная история, изучавшая «классы», «сословия», «социальные слои», то есть, можно в известном смысле сказать, «воображаемые сообщества», конструировала преимущественно иерархическую, покоящуюся на вертикальных связях структуру общества. И подобная его картина была вполне естественной для историков, убежденных в том, что «государство» и «власть», политическая или экономическая, оказывают решающее воздействие на социальные порядки. В последние десятилетия возрос интерес к «реально» возникавшим и функционировавшим объединениям, к относительно небольшим социальным группам, связанным в Средние века не узами кровного родства, а общими целями и договорными отношениями, скрепленными клятвой. Справедливости ради, надо указать, что «взгляд на общество как на совокупность социальных групп был обоснован еще в начале ХХ в. Максом Вебером» [Арнаутова, 2007, с. 7].. Но ни тогда, ни позже, в межвоенный и послевоенный периоды, как пишет Ю.Е. Арнаутова, эти идеи не нашли должного отклика у ученых. Только в конце ХХ в., в том числе благодаря трудам немецкого историка О.Г. Эксле (3), начали глубоко и всесторонне изучаться подобные социальные группы, и стала очевидной связь средневековой гильдии в ее различных формах (от объединений купцов и ремесленников до ранних университетов) со всей корпоративной культурой Нового времени.
Действительно, «изначально словом universitas называли любые сообщества связанных взаимной присягой, корпоративный вид объединения людей, для которого характерны были горизонтальные связи, – в отличие от тех, что основывались на вертикальных отношениях господства и подчинения» [Уваров, 2007, с. 544]. Но постепенно этот термин закрепился не за всеми корпорациями, а только за объединениями преподавателей и студентов.
Анализ самого процесса возникновения средневековых университетов позволяет выявить определенные аналоги с историей образовательных центров в последующие эпохи, включая новейший период. Полемизируя с некоторыми современными авторами и защищая «идола истоков», П.Ю. Уваров подчеркивает, что даже в России «университетская идея приживалась, несмотря на величайшие трудности. Причины этого – в жизненной силе университетского феномена. Университетской культуре, сложившейся в средние века, была присуща внутренняя логика, способная проявляться в относительной независимости от внешних условий и от господствующей идеологии» [Уваров, 2001, с. 214].
Как известно, существовало несколько вариантов возникновения ранних университетов: их спонтанное развитие из старых центров образования (Париж, Болонья, Оксфорд, Монпелье), их учреждение церковными или светскими властями (Валенсия, Саламанка, Неаполь, Тулуза), наконец, появление новых университетов в результате т.н. сецессии, то есть открыто заявленного членами корпорации недовольства в связи с нарушением университетских свобод [Уваров, 2007, с. 546]. Сецессия выражалась иногда в забастовке, но часто приводила к уходу членов университетской корпорации в другой город, где и возникал новый университет. Этот процесс в чем-то напоминает возникновение некоторых университетов в современную эпоху, хотя в ХХ в. причинами появления «дочерних» центров высшего образования обычно было не ущемление университетской автономии, а военно-политические конфликты и революции. В этом отношении весьма показательна история становления университетов в Ростове-на-Дону и Воронеже [Карпачев, 2013; История Ростовского государственного университета, 2015].
Одной из интереснейших проблем истории университетов является проблема взаимоотношений университетской корпорации с институтами власти. Она тоже дала о себе знать еще в средневековую эпоху, когда «сообществам магистров и студентов» приходилось испытывать давление со стороны городских и местных церковных властей и одновременно – пытаться заручиться поддержкой императорской (либо – королевской) и самой авторитетной в христианском мире – папской власти. Но покровительство, оказываемое высшей церковной или светской властью, как и привилегии, предоставляемые ею университетам, были в большинстве случаев и желанными, и обременительными. И эта дилемма – как не утратить столь нужной поддержки высшей власти, при этом сохранив если не полную свободу, то хотя бы не слишком урезанную автономию? – во многом будет определять внутреннюю жизнь и «политику» университетских корпораций.
Но и властям необходима была поддержка со стороны интеллектуалов. Наличие последних в окружении того или иного государя не только придавало дополнительный «блеск» его правлению, но и нередко способствовало решению вполне злободневных политических задач. В длительной конфронтации церковной и светской власти в средневековую эпоху теологические и юридические аргументы обеих сторон зачастую оказывались, по выражению Дж. Митчелла, «обоюдоострым мечом» [Mitchell, 1980, p. 20], и требовалась недюжинная квалификация – и правовая, и богословская, и риторическая – чтобы обратить тот или иной довод в свою пользу. Так, например, в полемике о «Donatio Constantini» Римская курия делала акцент на том, что Константин уступил власть папе, а имперские юристы указывали, что Вечный город был дарован понтифику императором, поэтому не папа, а император является сюзереном. Университетские юристы могли обосновать притязания на земли или властные полномочия, а теологи – уличить политического противника в опасных заблуждениях, неверной трактовке догматических положений. Так исход идейных и политических баталий оказывался в прямой зависимости от того, какой из сторон удалось привлечь на свою сторону самых эрудированных и авторитетных, искушенных в риторических приемах и юридической казуистике интеллектуалов.
П.Ю. Уваров резонно полагает, что бурный рост числа университетов «в конце XIV в. отчасти был результатом великой схизмы – противоборства пап и антипап. Области, не признававшие авиньонского папу и не желавшие посылать студентов в Париж или Орлеан, стремились основать свои университеты. Римский папа охотно удовлетворял такие просьбы и стремился изыскать средства для содержания преподавателей. Ему нужны были помощники в борьбе с “антипапой”» [Уваров, 2007, с. 546]. Несколько позже, в первой половине XV в., возникновение новых университетских центров во Франции в известной степени определялось политическим расколом страны в ходе Столетней войны. Но университеты имели возможность влиять не только на «высшую» (светскую или церковную) власть, но и вмешиваться в социально-политическую борьбу на более «низком», местном уровне, используя свой авторитет и личные связи членов корпорации [Уваров, 1991, с. 55–71].
Коллизии, зародившиеся в первые века университетской истории, так или иначе будут проявляться и в последующие эпохи, вплоть до наших дней. Власть, если она хочет быть (или – казаться!) достаточно «цивилизованной», не может обойтись без интеллектуалов, а они в значительной мере сосредоточены в университетах. Члены университетской корпорации не в состоянии обойтись без покровительства и всяческой, как материальной, так и политической, поддержки властей, но при этом убеждены в возможности и даже необходимости сохранения «свобод» или по меньшей мере автономии. Обе стороны порой искренне убеждены в том, что их позиция «единственно верная» и нужная обществу, и склонны упрекать (а то и прямо обвинять!) своих оппонентов в непонимании насущных общественных интересов и даже в корыстолюбии. Сколько бы ни изучалась история науки, всегда, очевидно, останется дискуссионной проблема: нужно ли «властям» определять направления развития образования и науки? Или это задача интеллектуалов, понимающих гораздо глубже, чем государственные чиновники, облеченные властью, суть тех процессов, которые происходят в мире науки, и смысл тех перемен, что необходимы в системе образования?
Своими корнями в средневековую эпоху уходит и такая проблема, как взаимоотношения университетской корпорации с горожанами. Большей частью они не были идиллическими. Как пишет П.Ю. Уваров, ссылаясь на исследования Дж. Россера, членам городских корпораций приходилось «противостоять натиску извне. Такой внешней “агрессивной средой” для интеллектуалов были прежде всего горожане. Они имели немало оснований выступать против пришлых и буйных школяров и, как это нередко бывало, распространять на студентов и магистров право репрессалий (т.е. если школяр убегал с места преступления или скрывался от кредиторов, гнев горожан мог излиться на его земляков или же вообще на любого подвернувшегося под руку студента или магистра)» [Уваров, 1999, с. 228]. Если в эпоху Средневековья защитником университетской корпорации выступала церковь, то позже, по мере изменения властных отношений в самом городе, меняется и характер взаимоотношений города и университета.
Город имел и вполне конкретные выгоды от нахождения в его стенах университета. Во-первых, крупные города, будучи влиятельными политическими игроками, нуждались в теологах и юристах по тем же причинам, что и папство, или империя. Во-вторых, многие города были не против дать приют школярам и их наставникам из соображений престижа. Причем век от века роль этого фактора возрастала, и не только в Европе. История многих стран знает немало примеров своеобразного «комплекса неполноценности» крупных городов, не имевших университета, и их отчаянной борьбы за его учреждение. Наконец, из-за высокой плотности населения, удручающего санитарного состояния и связанной с этим постоянной угрозы эпидемий город был крайне заинтересован в квалифицированных медиках. Следствием этой потребности стало включение в структуру «старших» факультетов средневекового университета – наряду с теологическим и юридическим – медицинского.
Применительно к России проблема взаимоотношений города и университета долгое время оставалась маргинальной для ученых. Но за последние 10–12 лет ситуация изменилась. Сначала эти вопросы были эпизодически затронуты в исследовании, посвященном истории Казанского университета [Вишленкова и др., 2005, с. 17–20, 321–341]. Более обстоятельно этот аспект университетской истории был рассмотрен в книге И.П. Кулаковой, которая подчеркивает, что Московский университет, основанный по воле государства и по образцу аналогичных западноевропейских центров образования, одновременно испытал воздействие российских культурных традиций и городского окружения. Изучение процессов, протекавших внутри университетской корпорации, не может быть глубоким без понимания их связи со всей культурой Москвы второй половины XVIII в. Многообразным было влияние университета на окружающее культурное пространство, но и последнее (газета и театр, масонские объединения и научные общества, сады Москвы и городские гулянья) существенно воздействовало на жизнь университетского сообщества. Патриархальные черты и европейские новации причудливо переплетались в жизни Московского университета [Кулакова, 2006].
Но, пожалуй, наиболее всесторонне проблема «Университет и город» проанализирована в коллективном труде историков России, Германии и Эстонии, вышедшем несколько лет назад под редакцией Труде Маурер и Александра Дмитриева. Как пишет Т. Маурер, «новая перспектива для исследования истории российских университетов» заключается в том, чтобы преодолеть одностороннюю или, во всяком случае, неполную трактовку этой истории, когда университетские корпорации рассматривались как часть государственного аппарата либо, напротив, «как часть антисамодержавной оппозиции, без учета их собственных интересов» [Университет и город в России… 2009, с. 5]. Предметом исследования в данном труде является система разнообразных отношений университетского сообщества Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Дерпта (Юрьева) с городским окружением.
Разумеется, далеко не все конфликты в университетской истории носят «внешний» характер. И в самой университетской корпорации отношения бывают порой отнюдь не идиллическими, но и это свидетельствует о физически ощущаемой реальности сообщества, именуемого университетом. Более того, эти связи и конфликты, коллаборации и соперничества, симпатии и антипатии прорастают сквозь институциональные границы отдельных университетов – через карьерные перемещения и академическую мобильность, встречи на конференциях и участие в совместных проектах. В этих широких, говоря словами П. Бурдье, «интеллектуальных полях» [Бурдье, 2007, с. 53], образуются своего рода информационные сгустки, названные Г. Галисоном «зонами обмена» (trading zones) [Galison, 1999, p. 137].
Все это позволяет говорить, что реальными сообществами являются не только конкретные университеты, но и то, что с легкой руки Дайаны Крэйн [Crane, 1972] принято называть «незримыми колледжами» (invisible college). При этом с течением времени становится все меньше оснований употреблять данное выражение во множественном числе и все больше – в единственном. Тому способствует тенденция, которую А.Дж. Тойнби еще в 1953 г. назвал «аннигиляцией расстояний» [Toynbee, 1954, p. 5], а также развитие средств связи и та все возрастающая роль, которую в нашей жизни играет Всемирная паутина.
Традиционным направлением изучения истории университетов является анализ внутрикорпоративных отношений. Но в последние десятилетия ХХ в. стало ясно, что изучение роли и места интеллектуалов в жизни общества, как в эпоху Средневековья, так, очевидно, и в более близкие нам периоды, «требует выхода из строго корпоративных рамок. Ведь тогда и Фома Аквинский, и Альберт Великий не могут быть отнесены к этой группе, так как они не были полноправными членами университетской корпорации, не обладали университетскими степенями» [Уваров, 1987, с. 324]. Отсюда – идея изучения, часто методами просопографического анализа, «университетской среды», понятия более широкого, чем университетская корпорация.
Но и исследование собственно университетской корпорации приобретает все новые нюансы, о чем свидетельствует международный проект «Где университет, там и Европа: трансфер и адаптация университетской идеи в Российской империи второй половины XVIII – первой половины XIX века» (2008–2010). В рамках этого проекта была подготовлена коллективная монография «о профессиональной культуре специфической социальной группы – русских профессоров». Кратко излагая концепцию данного исследования, Е.А. Вишленкова с соавторами отмечают, что «университеты в России появились в эпоху зрелого Просвещения», но «правительство Александра I придумало для России гибридную форму университета, скомбинированную из элементов до-классической и классической моделей. Ее вживление сопровождалось рудиментацией средневековых цеховых привилегий и инкорпорацией университетских служащих в модерный государственный организм» [Вишленкова и др., 2012, с. 10]. Изучая документы и другие материалы об университетах Москвы, Казани и Харькова, авторы исследования сконцентрировали свое внимание на трех аспектах деятельности (и жизни) русских профессоров: их «административных тяготах», «воспроизводстве себе подобных» и «этосах профессорского служения». Выводы авторов монографии значительно корректируют расхожие суждения о стремлении профессоров к автономии, о соотношении образования и воспитания, о взаимоотношениях профессоров и студентов, и пр. Они заставляют задуматься и о том, насколько сложна проблема взаимоотношений университетского сообщества с властями, и всегда ли предоставление автономии университетскому сообществу является благом для науки и образования, да и для самой корпорации.
Изучение истории университетов позволяет сделать интересные наблюдения над соотношением локальных (национальных) и наднациональных (универсалистских, космополитических) тенденций как в период Средневековья, так и в последующие эпохи. Папские грамоты, получение которых позволяло образовательным центрам считаться полноправным studium generale; латинский язык, объединявший всех членов университетских корпораций и в течение многих веков являвшийся языком межнационального культурного общения; ученые степени, которые должны были признавать во всем христианском мире, независимо от того, каким университетом они были присвоены, – все это способствовало сближению и даже известной «унификации» различных регионов и – говоря шире – всего Западного христианского сообщества.
Но вместе с тем уже ранняя история университетов свидетельствует о существовании и иных тенденций. Как известно, члены университетской корпорации объединялись в своеобразные «землячества» – «нации». Сколь бы условными ни были подобные объединения (действительно, к той или иной университетской «нации» обычно присоединялись представители еще одной-двух, а то и нескольких малочисленных этнических групп), но сам принцип этого объединения позволяет говорить о том, что внутри «христианского мира» идет процесс становления если не национальной, то, по крайней мере, региональной идентичности. В ХV в. он приведет к тому, что университеты, попадая во все более определенную зависимость от политической власти, утрачивают свой «наднациональный» характер.
Вероятно, можно сказать, что дальнейшая история университетов неплохо иллюстрирует это сочетание национальных и «универсальных» тенденций. Как бы правители ни стремились подчинить интеллектуалов своей власти и реализации тех задач, которые они считают приоритетными, но наука по своей сути не знает «национальных» границ. Но эти «границы» создаются искусственно, якобы из побуждений «высшего порядка», причем диапазон подобных соображений довольно значителен: от стремления не допустить использования потенциальными политическими противниками тех или иных научных открытий, особенно связанных с военной техникой, до боязни распространения «опасных» социально-политических и философских идей, будто бы чуждых традициям данного социума.
Историю науки трудно представить без обмена идеями, без плодотворного сотрудничества ученых различных стран. Известно, что в XVIII–XIX вв. многие российские юноши, преимущественно из дворянских семей, получали образование в европейских университетах (4). Для развития российской науки и культуры в целом был исключительно важен факт привлечения зарубежных, особенно немецких, исследователей к работе в России. Но при этом порой возникали сложные коллизии, связанные, например, с тем, что, по мнению одних ученых, история – это прежде всего наука, а, по мнению других, история нужна как «патриотический жанр».
Для середины XVIII в. характерна судьба выходца из Германии Г.Ф. Миллера, впервые приехавшего в Россию в год смерти Петра Великого (1725 г.), в 1747 г. принявшего российское подданство, получившего звание российского историографа и должность ректора университета при Петербургской Академии наук. Его суждения по целому ряду проблем российской истории казались недопустимыми М.В. Ломоносову, поддержанному в этой полемике некоторыми другими русскими учеными. Поскольку научных аргументов М.В. Ломоносову явно недоставало, пришлось прибегнуть к другим «доводам»: в октябре 1748 г. в квартире Миллера устроили обыск с целью поиска «компрометирующих» материалов [Каменский, 1996, с. 383–386]. Как справедливо замечает по этому поводу А.Б. Каменский, дело заключалось отнюдь не в «антирусских» настроениях Миллера, который искренне любил Россию и честно ей служил. «Дело было именно в понимании научной истины и ее значения. По мнению Миллера, она не должна была зависеть от политических пристрастий и конъюнктуры. Историк “должен казаться без отечества, без веры, без государя, – писал он, – все, что историк говорит, должно быть строго истинно и никогда не должен он давать повод к возбуждению к себе подозрения в лести”. Ломоносов, напротив, требовал, чтобы историограф “был человек надежный и верный и для того нарочно присягнувший, чтобы никогда и никому не объявлять и не сообщать известий, надлежащих до политических дел практического состояния… природный россиянин… чтоб не был склонен в своих исторических сочинениях ко шпынству и посмеянию”» [Каменский, 1996, с. 384].
Приведенный выше пример был типичен не только для России XVIII в., поскольку в самые разные исторические эпохи сложность взаимоотношений между «властью» и «интеллектуалами» усугублялась различным пониманием целей и задач ученого, в том числе университетского, сообщества самими его представителями. В этой связи особенно драматически воспринимались те перемены в системе университетского образования, которые были вызваны политическими обстоятельствами. История «вновь учрежденного» в 1869 г. Варшавского университета и сегодня, по прошествии почти полутора веков, не рассматривается польскими коллегами как естественная часть истории польской культуры и науки, поскольку обучение в этом университете велось на русском языке российскими учеными. Еще более трагически воспринималась французами ситуация в Страсбургском университете, ставшем после поражения Франции в начальный период Второй мировой войны германским Имперским университетом и рассматривавшемся нацистскими властями как своеобразный форпост в продвижении на Запад германского «духа» и немецкой системы образования. Бросает ли тень на нравственный облик русских профессоров их участие в политике русификации польских земель после восстания 1863 г.? Должен ли был известный немецкий медиевист Герман Геймпель принимать в 1941 г. предложение возглавить кафедру средневековой истории в Имперском университете Страсбурга [Хряков, 2011, с. 175–194]?
Выделим несколько проблем, связанных с характером и содержанием университетского образования. Прежде всего – это вопрос о том, должен ли студент за время обучения в университете расширить свою эрудицию или главное внимание должно уделяться приобретению исследовательских навыков. Вторая проблема: расширение эрудиции или научный поиск должны быть ориентированы на относительно узкую область знания или как можно более широкую, охватывая едва ли не все «науки о природе» (либо – «науки о культуре»)? Третья дилемма: как в университетском образовании должны соотноситься «фундаментальные» и «прикладные» науки? Наконец, какое место принадлежит философии и другим дисциплинам, способным повлиять на мировоззрение студентов. Кстати, в конкретные исторические эпохи и в различных социумах в число этих дисциплин могли входить самые различные учебные курсы – от древних языков и теологии до истории, политологии и экологии. (Оставим за скобками такие «экзотические» науки как «научный коммунизм» и «история КПСС».)
Вероятно, основные направления образования, как и его содержание, формировались и затем нередко трансформировались в результате переплетения сложных социокультурных процессов, протекавших как в обществе в целом, так и его интеллектуальной среде. Существенную роль играл характер взаимоотношений между «властями» (светскими и духовными) и представителями университетского (говоря несколько шире – научного) сообщества. Эти процессы особенно интересно проследить применительно к эпохе ХIХ–ХХ вв., когда, с одной стороны, сложились национальные государства, а с другой, упрочился авторитет образования и науки, и даже само представление об «истине» стало связываться с научным знанием. В таких обстоятельствах власти не могли просто игнорировать мнение ученого сообщества, хотя и поступали по-разному.
История российского образования, как обычно считают, многими нитями связана с традициями германских университетов. Но при такой констатации порой не учитывают, что в самой Германии существовали различные модели университетского образования. Как пишет американский историк Фриц Рингер в своей книге о «немецких мандаринах», «на протяжении большей части XVIII в. прусские чиновники получали образование преимущественно в Университете города Галле. Основанный в 1694 г., этот университет в ХVIII в. занял совершенно особое место в интеллектуальной жизни Германии, поскольку решительно порвал со схоластической традицией высшего образования» [Рингер, 2008, с. 22–23]. Благодаря деятельности Х. Томазиуса и Х. Вольфа, в этом университете преимущественное внимание уделялось современному светскому знанию и, в частности, такой «практической» науке как камералистика (дисциплина об основах государственного управления и делопроизводства).
Но основанный в 1734 г. (ровно через 40 лет после основания университета в Галле) Геттингенский университет вскоре предложил иную программу образования, ставшую своеобразной «неогуманистической» реакцией на утверждавшийся рационализм и прагматизм. Идеи многих замечательных мыслителей и ученых XVIII в. (Ж.-Ж. Руссо и И.И. Винкельмана, И.Г. Гердера и И.Г. Песталоцци, и др.), очевидно, повлияли на классические исследования в Геттингене и на формирование системы классического образования с его «антиутилитарным» содержанием. Исключительное значение в утверждении идеи облагораживающей роли образования и его воздействия на личное достоинство человека имела деятельность Фридриха Шиллера и Вильгельма фон Гумбольдта. В конце XVIII в. недолгий, но блистательный период переживает Йенский университет, в котором в это время преподают великие немецкие философы И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель и Ф.В.Й. Шеллинг. Философия, наряду с классической филологией и историей искусства, становится «стержнем» классического университетского образования [см.: Die Idee der deutschen Universitat… 1956] .
С основанием в Берлине в 1810 г. нового университета связывают реформу не только университетского образования в Пруссии и во всей Германии, но и в значительной мере – развитие университетов во всей Европе. Внутренняя организация и устав Берлинского университета, принятый в 1816 г., на долгое время стали образцом. Но этот «образец» сформировался в результате достаточно долгого поиска немецких интеллектуалов, и важными вехами «на пути в Берлин» были Галле – Геттинген – Йена.
Таким образом, при ближайшем рассмотрении университетское постоянство оказывается весьма изменчивым постоянством. Примечательно, что изменения подходов к исследованию университетов в целом соответствуют основным закономерностям эволюции исторического знания. На стадии формирования науки о прошлом преобладало генерализирующее направление, побуждавшее исследователей к поиску в истории общего, повторяющегося и типичного, выявлению (или конструированию) «объективных» тенденций и закономерностей. Однако во второй половине прошлого века стало набирать силу обратное, индивидуализирующее направление, с позиций которого история трактовалась как «наука не об общих законах, а о конкретном и индивидуальном, уникальном и неповторимом» [Гуревич, 2007, с. 80].
С этих позиций и университетская история от Средневековья до наших дней предстала не столь уж и прямой. Оказалось, что европейские университеты пережили немало катаклизмов, существенно изменивших их облик и внутреннюю организацию. Средневековый университет смог утвердить свою автономию на пересечении интересов трех социальных сил – государства, церкви и общества. Но время показало, сколь ненадежно такое основание университетской свободы: малейшее нарушение этого равновесия должно было неминуемо привести к тому, что сила, получившая перевес, непременно попытается поставить университет под свой контроль. Это и произошло в XVIII в.: государство, одержав верх над церковью, тут же взяло университет под свою опеку, едва не раздавив его в своих объятьях. О масштабе последовавшего за этим кризиса, разразившегося на исходе столетия, говорят следующие цифры: из 143 университетов, существовавших в 1789 г., к 1815 г. осталось только 83; все 24 французских университета были закрыты и заменены учрежденными в 12 городах специализированными школами и отдельными факультетами; в Германии исчезли 18 университетов из 34, в Испании – 10 из 25 [A History of the University in Europe, 2004, p. 3].
И именно на рубеже XVIII–XIX вв., когда, казалось, было поставлено под вопрос само существование университетов, они впервые становятся объектом исторической рефлексии. На самом пике этого кризиса, с 1802 по 1805 г., выходит четырехтомный труд Кристофа Майнерса «История зарождения и развития высших школ нашего континента». В нем автор ставил перед собой задачу написания «прагматической истории университетов» [Meiners, 1802, S. 3], дабы «с одной стороны, вскрыть их пороки, недостатки и упущения, которых следует избегать, а с другой – вскрыть достоинства, коим дóлжно подражать» [Meiners, 1802, S. 3–4].
Примечательно, что последний том этого гранд-нарратива, положившего начало современному университетскому историописанию, вышел всего за год до фактической потери суверенитета Пруссии и за два – до знаменитых «Речей к немецкой нации» И.Г. Фихте, в которых тот призвал соотечественников ответить на политическую катастрофу реваншем духа. И отнюдь не случайно в этом манифесте далеко не последнее место было отведено теме университета: «Радующим свидетельством того, что немцы еще не полностью умерли для высшего, является то, что до сих пор многие немецкие племена и государства оспаривали друг у друга славу наиболее образованных. Одни имели самую широкую свободу прессы, самое свободное отношение к высказываемым мнениям, другие – лучше устроенные школы и университеты» [Фихте, 2009, с. 264]. Не трудно догадаться, что немцы, сохранившие университеты и тем продемонстрировавшие величие своего духа, противопоставлены здесь виновникам их национального унижения – французам, имеющим самое «свободное отношение к высказываемым мнениям», но позволившим заменить университеты на отлученные от науки высшие государственные школы. Прямым откликом на этот призыв Фихте стала университетская реформа Вильгельма фон Гумбольдта, а сам философ удостоился ректорского поста в созданном Гумбольдтом Берлинском университете. Было провозглашено создание университета, основанного на принципах единства обучения и науки и академической автономии. Но это была автономия, дарованная государством по необходимости: университет нужен был и обществу, и власти как залог духовного реванша немецкой нации после унижения под Йеной и Ауэрштедтом. Как верно заметил Дж. Бен-Дэвид, «статус и привилегии университетов были пожалованы им военно-аристократическим правящим классом, а не получены в результате роста свободной инициативы. Следовательно, этот сомнительный статус основывался на компромиссе, в соответствии с которым правители государства считали университеты и их кадры средствами для подготовки определенного рода специалистов» [Бен-Дэвид, 2014, с. 245].
Итак, итогом потрясений рубежа XVIII–XIX вв. стало появление двух альтернативных образовательных моделей – этатизированной французской высшей школы, из которой была исключена научно-исследовательская составляющая, и «Гумбольдтовского университета», базировавшегося на принципах академической автономии и единства образования и науки. В свою очередь, в середине XIX в. зарождается еще одна модель университета: генетически близкая британской, хотя и не идентичная ей, но при этом оппозиционная по отношению к «гумбольдтианской» – выдвинутая кардиналом Дж. Ньюменом концепция либерального образования (liberal education). Суть «Идеи Университета», как она виделась Ньюмену, заключалась в том, что «он ставит своей первоочередной, главной и непосредственной целью не науку, или искусство, или профессиональное мастерство, или литературу, или добычу новых знаний, но определенное благо, приносимое его чадам <…>, развитие в них определенных склонностей – нравственных и умственных» [Ньюмен, 2006, с. 11–12]. Сходные взгляды высказывал и Дж.С. Милль: «Университет должен быть местом свободного мышления. Чем старательнее он исполняет свой долг в других отношениях, тем несомненнее, что он исполнит свое назначение здесь» [Милль, 1867, с. 59]. В дальнейшем данная концепция получила значительное распространение в США, существенно потеснив позиции «гумбольдтовского университета».
Но если в XIX в. именно немецкий университет был «лучшей машиной по производству ученых» [Александров, 2006], то в следующем столетии конкурентом Германии (и шире – континентальной Европы) стала Америка. Американские специалисты в этой проблематике констатируют определенное влияние системы университетского образования, сложившейся в Германии, на США. Так, ведущий специалист в этой проблематике Натан Рейнгольд замечает: «Большинство американцев, говоря о подражании немецкой модели университета, имело в виду именно роль философского факультета с его профессорами, который изначально был низшей, подготовительной ступенью перед профессиональными факультетами. Другой продукт реформы образования в Германии, классическая гимназия, готовившая абитуриентов и бывшая важной составляющей успеха немецких университетов, также обсуждалась в дискуссиях об американской реформе» [Рейнгольд, 2014, с. 18–19]. Но далее, говоря о науке в Германии, Н. Рейнгольд иронично пишет, что даже ученые, чьи исследования были тесно связаны с практическим использованием научных открытий, «старательно и, очевидно, искренне провозглашали свою преданность чистой науке и фундаментальному знанию. В университетах Германии, как и в обществе в целом, слово и дело не всегда соответствовали друг другу» [Рейнгольд, 2014, с. 23]. Не отрицая роли общекультурной, в том числе философской подготовки, американцы понимали недостижимость на практике «идеальных устремлений», выдвигая на передний план расширение в университетах научных исследований. Этому способствовала и правительственная политика в сфере образования, и помощь благотворительных научных фондов, и все расширяющаяся связь науки с производством, и заказы военного министерства [см.: Наука по-американски… 2014, с. 95–591] .
Таким образом, сложившийся к исходу ХХ столетия университетский ландшафт отличается значительным разнообразием, которое, по мнению современных теоретиков высшего образования [Хюсен, 1992, с. 28; Хабермас, 1994, с. 11; Каррье, 1996, с. 28; Университет как центр… 2004], может быть сведено к четырем основным моделям: гумбольдтовский «исследовательский университет», британская модель интернатного типа («Оксбридж»), основанная на тесном неформальном общении студентов с преподавателями; меритократическая модель французских «больших школ» и производная от концепции liberal education «Чикагская модель», детище легендарного президента (1929–1945 гг.) и канцлера (1945–1951 гг.) Чикагского университета Р.М. Хатчинса, автора концепта «обучающееся общество» (learning society).
Тем не менее при всей значимости перечисленных черт основных моделей университетского образования они отнюдь не рассматриваются как признаки качественных различий. Скорее, это внутривидовая специфика университетского образования как явления, разнообразного в своих внешних формах, но единого в ключевых характеристиках. Как правило, в качестве таковых указывается шесть основных признаков: сосредоточение наиболее авторитетных профессионалов в области производства знания; право на «формальную сертификацию» (выдачу документов об образовании и научной квалификации); обучение по широкому спектру дисциплин; осуществление исследовательской деятельности, формирование социальных и политических элит, а также, last but not least, академическая автономия [Dmitrishin, 2013, p. 2]. Указывается также, что именно университет, обучение в котором «в существенной мере основывалось на научном знании» [Grant, 1984, p. 68], содействовал формированию общей европейской интеллектуальной традиции и академической элиты, «нравственные устои которой основаны на общих европейских ценностях, выходящих за рамки национальных границ» [Rüegg, 1992, p. xx]. В совокупности этих качеств университет традиционно рассматривается как «европейская институция par excellence», один из трех столпов средневекового общества (regnum, sacerdotium, stadium) и, более того, «единственная европейская институция, сохранившая свои фундаментальные основы и базовую социальную роль на всем протяжении истории», как самое очевидное доказательство глобального значения европейской цивилизации [Rüegg, 1992, p. xix].
Впрочем, данная трактовка уже давно ставится под сомнение многими исследователями. В этом отношении показательна достаточно бурная полемика между Тоби Хаффом [Huff, 1993; 2002; 2008; 2012] и Джорджем Салибой [Saliba, 1999; 2007] о роли Европы в становлении современного научного знания. Оспаривая тезис Хаффа о возникновении университетов как об одном из ключевых факторов и поворотном моменте в процессе институциализации науки, Салиба утверждал, что вклад Исламского мира в развитие научного знания ничуть не меньше, чем Европы. Более того, все то, что западные историки считают исключительным достоянием Европы – и университеты, и передовое научное знание – задолго до этого уже было у арабов. В откликах на критику своих взглядов и последующих публикациях Хафф настаивал, что в развитии науки и образования в Европе и Исламском мире был целый ряд принципиальных отличий, и в первую очередь это касается университетов. Их уникальность, по сравнению с ближневосточными учебными заведениями, определяется как особым юридическим статусом автономных корпораций, обладавших как правом установления собственных норм и правил, так и структурой учебных планов, построенных на основе античного научно-философского наследия [Huff, 2012, p. 126; 2014, p. 30].
Дж. Салиба не единственный оппонент Т. Хаффа в вопросе об уникальности европейского университета. Профессор Орхусского университета (Дания) Ставрос Муциос полагает, что «ни хронология, ни формальная сертификация, ни подготовка управленческих и профессиональных элит не дают оснований для концепции университета как европейской институции» [Moutsios, 2012, p. 6]. Поскольку высшие учебные заведения с подобными функциями существовали в разных частях мира задолго до XI в., единственным принципиальным отличием от них европейского университета можно считать лишь академическую автономию. В то же время Муциос оговаривается, что хоть это установление и было воспринято за пределами Европы, оно оказалось «весьма неоднозначным и шатким проектом» – тем элементом, который в пору «университетской экспансии» XIX–XX вв. усваивался в последнюю очередь [Moutsios, 2012, p. 19]. К этому можно добавить тонкое наблюдение Рональда Дора о роли университетов в тенденции, прямо противоположной глобализации, которое он определяет как «феномен индигенизации второго поколения» (second-generation indigenization phenomenon) [Dore, 2001, p. 229]. Суть этого явления заключается в том, что антизападные настроения в местных элитах вызревают именно среди выпускников местных университетов, основанных предшествующим поколением «модернизаторов», получивших образование на Западе.
Еще категоричнее высказывается против концепции Хаффа Александр Дмитришин: он не видит сколь-нибудь существенных отличий европейского университета по сравнению с другими «институтами высшего образования и производства знаний» за исключением академической автономии, значение которой, по его мнению, сильно преувеличено. «В средние века обучение находилось под церковной цензурой, а в Новое время его поставило под свой контроль государство, – пишет Дмитришин. – Современный университет прочно интегрирован в рыночно-ориентированную общественную систему» [Dmitrishin, 2013, p. 16].
Представляется, что данное суждение излишне категорично. Безусловно, ни один университет никогда не был абсолютно независим от общества, государства и, говоря шире, социально-политической реальности. Но и то, что в определенные периоды своей истории европейские университеты обладали достаточно широкой автономией, вряд ли может быть оспорено. Вопрос в том, какая совокупность условий позволила средневековым школам, действительно типологически сходным с подобными учреждениями вне Европы, превратиться в universitas magistrorum et scholаrium, и что вынуждало государственную власть, церковь и общество в той или иной мере признавать права и привилегии университета как самоуправляемой корпорации?
По мнению А.Ю. Андреева, только в Западной Европе существовало сочетание целого ряда необходимых для становления университетов явлений [Андреев, 2009, с. 52], и это служит весомым аргументом в пользу идеи уникальности европейского университета. Ни в Арабском халифате, ни в Византии, ни в Китае не могла сложиться подобная конфигурация социокультурных факторов. Добавим к этому, что свою роль сыграла и Григорианская реформа, приведшая к окончательному утверждению целибата. Таким образом, если в Восточной церкви, равно как и в Мире ислама, воспроизводство духовенства в значительной мере обеспечивалось самими семьями священнослужителей, Западная церковь была лишена столь важного «кадрового ресурса». А это неизбежно ставило ее в определенную зависимость от образовательных учреждений.
К концу XX в. превосходство американского университета стало столь очевидным, что Европа, «опасаясь экспансии панамериканизма в образовании» [Байденко, 2003, с. 44], стала на путь реформ, известных как Болонский процесс. Вопреки распространенному среди российской профессуры мифу, будто процесс этот затеян, дабы разрушить «наше лучшее в мире образование», его вектор совершенно иной. Просто оказалось, что сегодня университет зависит не только и не столько от государства, сколько от рыночной экономики и общества, желающего знать, на что ученые тратят деньги налогоплательщиков. И оказалось, что американский университет к этим условиям приспособлен гораздо лучше. Поэтому глубоко символично, что подобно тому, как кризис университетского образования в XVIII в. вызвал к жизни монументальную историю высшего образования в Европе Кристофа Майнерса, в 1983 г. в ситуации назревающего кризиса высшей школы принимается решение Европейской комиссии ректоров о создании нового университетского гранд-нарратива.
С 1992 по 2011 г., т.е. в преддверии Болонского процесса и в его активной фазе, сразу на двух языках – английском и немецком – издается 4-томный труд «История университета в Европе» под редакцией швейцарского филолога и социолога профессора Бернского университета Вальтера Рюгга. Переклички между этим трудом и творением Майнерса достаточно очевидны, если не демонстративны. Во вводной статье Рюгг прямо указывает на геттингенского профессора как на своего «единственного предшественника» [Rüegg, 1992, p. xxii]. Отдавая должное первопроходцу университетского историописания, Рюгг тем не менее заявляет, что не разделяет пессимизма Майнерса в отношении будущего университетов. Изящно стилизуя свое суждение под «механистическую» фразеологию эпохи Просвещения, он так формулирует основную идею возглавляемого им авторского коллектива, выражающую суть современного видения проблем университета: «Подобно тому, как машину можно отремонтировать и вновь запустить в работу, если ясны и проверены на практике назначение и взаимосвязь ее агрегатов, так и университет, будучи очень сложным социальным институтом, должен время от времени подвергаться фундаментальному анализу» [Rüegg, 1992, p. xxvii]. Такой детальный анализ всех структур и функций высшей школы в их историческом развитии видится редактору и авторам залогом своевременной рациональной корректировки социальных функций университета.
Как видим, круг проблем высшей школы, ее прошлого и настоящего, достаточно широк, и столь же широк круг научных дисциплин, представители которых вовлечены в эту дискуссию: социологи и антропологи, психологи и теоретики образования, однако явно доминируют здесь историки или, по крайней мере, исследователи, работающие на стыке истории и иных социогуманитарных дисциплин. Поэтому сегодня мы вправе говорить не просто о некой совокупности исследований по истории университетов, но об особой предметной области исторического знания, оформленной институционально и дисциплинарно.
Ныне университетская история имеет весь набор формальных признаков академической дисциплины и соответствующего ей международного интеллектуального сообщества. В институциональном плане это подтверждается наличием Международной комиссии по истории университетов (ICHU – International Commission for the History of Universities), в которой Россия представлена двумя авторитетными специалистами – членом-корреспондентом РАН П.Ю. Уваровым и профессором НИУ ВШЭ Е.А. Вишленковой. Помимо упомянутых ранее университетских гранд-нарративов имеется ряд обобщающих работ по истории высшего образования в разных странах, в том числе и России (труды А.И. Авруса и А.Ю. Андреева) [см., напр., Аврус, 2001; Андреев, 2009]; едва ли не каждый крупный университет обзавелся своей официальной или полуофициальной историей, как правило – не одной. Университетская проблематика проявляется и в целом ряде сопряженных областей исследований – персональной истории, культурно-исторической антропологии, исторической урбанистике.
Охарактеризованные выше предметные области «университетской истории» нашли отражение и в тематической рубрике нашего журнала. Исследования Е.А. Вишленковой и К.А. Ильиной «Университетский архив и модернизация государственного управления в Российской империи 1820–1830-х гг.» и М.Д. Карпачева «Коренная реорганизация университетов в СССР в 1929–1933 гг.» посвящены острой – особенно применительно к российской действительности – проблеме взаимоотношений высшей школы и власти. Отчасти к этому же направлению примыкает и статья О.В. Морозова, показывающая, как посредством «юбилейного дискурса» позиционирует себя университет в его отношениях с властью и обществом. В то же время данный сюжет вводит университетскую проблематику в контекст интеллектуальной истории. В русле персональной истории представлены «профессорские биографии» и проблемы внутрикорпоративных отношений в университете в статьях А.Н. Птицына, А.Ю. Баженовой и С.С. Казарова. В традициях классической истории идей выдержана статья И.В. Волкова «Джон Барт: университет как универсум». Взгляды историков на проблемы современного университетского образования представлены в материалах дискуссии «Quo vadis, universitas?».
Подытоживая сказанное, хотелось бы выразить надежду, что выход в свет данного журнала, рассматриваемый редакцией как попытка внести посильный вклад в развитие университетской историографии, не обманет ожиданий читателей, а представленные в нем исследования вызовут заинтересованный отклик.
Подстрочные сноски
1 Lifelong learning (англ.) – «обучение на протяжении жизни» – понятие, введенное в 60-е гг. ХХ в. шведским психологом и теоретиком образования Торстеном Хюсеном, руководителем научно-футурологического проекта «Образование в 2000 году» [Хюсен, 1977, с. 69].
2 Эта тенденция проявилась и в самом факте многочисленных публикаций по истории университетов в альманахе (ныне – журнале) интеллектуальной истории «Диалог со временем». См., например, статьи в рубрике «Мои университеты…» (№ 20. С. 262–298) и в рубрике «Университетская культура России» (№ 36. С. 140–266), и др.
3 Избранные работы О.Г. Эксле вышли в русском переводе: [Эксле, 2007].
4 Всем памятны строки пушкинского «Евгения Онегина», где сказано об известном персонаже романа: «По имени Владимир Ленский, // С душою прямо гёттингенской, // Красавец, в полном цвете лет, // Поклонник Канта и поэт. // Он из Германии туманной // Привез учености плоды: // Вольнолюбивые мечты, // Дух пылкий и довольно странный, // Всегда восторженную речь // И кудри черные до плеч» [Пушкин, 1978, с. 33].
Источники и литература
Аврус А.И. История российских университетов. М.: МОНФ, 2001. 85 с.
Александров Д. Места знания: институциональные перемены в российском производстве знания // Новое литературное обозрение. 2006. № 7. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2006/77/alek21.html (дата обращения: 26.05.2016).
Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы. М.: Знак, 2009. 640 с.
Апрыщенко В.Ю., Иванеско А.Е., Сень Д.В. Всегда новое прошлое // Новое прошлое/The New Past. 2016. № 1. С. 10–24.
Арнаутова Ю.Е. Историческая наука о культуре Отто Герхарда Эксле // Эксле О.Г. Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 5–22.
Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы. М.: Исследовательский центр проблем подготовки специалистов, 2003. 128 с.
Бен-Дэвид Дж. Роль ученого в обществе / пер. с англ. А. Смирнова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 344 с.
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986. 256 с.
Бурдье П. Социология социального пространства / пер. с франц.; отв. ред. перевода Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. 288 с.
Вест П. Новаторские университеты Европы // Модернизация системы управления Ростовского государственного университета. Проект T-JEP-08545-94. 1994–1997. Ростов н/Д: Интернаука, 1997. С. 9–12.
Вишленкова Е.А., Галиуллина Р.Х., Ильина К.А. Русские профессора: университетская корпоративность или профессиональная солидарность. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 656 с.
Вишленкова Е.А., Малышева С.Ю., Сальникова А.А. Terra Universitatis: Два века университетской культуры в Казани. Казань: Казанский гос. ун-т, 2005. 498 с.
Горький М. Как я учился // Горький М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. М.: Гослитиздат, 1949. Т. 14. С. 76–82.
Гуревич А.Я. Двоякая ответственность историка // Общественные науки и современность. 2007. № 3. С. 74–84.
История Ростовского государственного университета (1915–2005) / А.Е. Иванеско, А.И. Нарежный, М.А. Пономарёва, М.В. Пятикова, В.П. Трут, Е.В. Шандулин; отв. ред. В.Ю. Апрыщенко; Южный федеральный университет. Ростов н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2015. 182 с.
Каменский А.Б. Судьба и труды историографа Герарда Фридриха Миллера (1705–1783) // Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России. Избранное. М.: Наука, 1996. С. 374–416.
Карпачев М.Д. Воронежский университет: Вехи пути. 1918–2013. Воронеж: ВГУ, 2013. 560 с.
Каррье Г. Культурные модели университета // Alma mater. 1996. № 3. С. 14–30.
Кулакова И.П. Университетское пространство и его обитатели: Московский университет в историко-культурной среде XVIII века. М.: Новый хронограф, 2006. 336 с.
Милль Дж.С. Речь об университетском воспитании // Юманс Э. Новейшее образование: его истинные цели и требования. Милль Дж.С. Речь об университетском воспитании / пер. с англ. М.А. Антоновича. СПб.: Русская книжная торговля, 1867. С. 5–71.
Наука по-американски: Очерки истории / пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 624 с.
Ньюмен Дж.Г. Идея Университета / пер. с англ. С.Б. Бенедиктова; под общ. ред. М.А. Гусаковского. Минск: БГУ, 2006. 208 с.
Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. С. 5–184.
Рейнгольд Н. Аспирантское образование и докторская степень: европейские модели и американские реалии // Наука по-американски: Очерки истории / пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 15–45.
Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ–ХХI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. 560 с.
Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 1890–1933. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 648 с.
Уваров П.Ю. История средневековых университетов во франко-бельгийской историографии начала 80-х годов ХХ в. (Обзор) // Средние века. Вып. 50. М.: Наука, 1987. С. 321–333.
Уваров П.Ю. Парижский университет и местные интересы (конец ХIV – первая половина XV в.) // Средние века. Вып. 54. М.: Наука, 1991. С. 55–71.
Уваров П.Ю. Интеллектуалы и интеллектуальный труд в средневековом городе // Город в средневековой цивилизации Западной Европы / отв.ред. А.А. Сванидзе. Т. 2. Жизнь города и деятельность горожан. М.: Наука, 1999. С. 221–263.
Уваров П.Ю. Университеты Российской империи глазами медиевиста (в защиту «идола истоков») // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 2001. № 7. С. 207–223.
Уваров П.Ю. Университет // Словарь средневековой культуры / под ред. А.Я. Гуревича. 2-е изд., испр. и доп. М.: РОССПЭН, 2007. С. 544–552.
Университет и город в России (начало ХХ века) / под ред. Т. Маурер и А. Дмитриева. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 784 с.
Университет как центр культуропорождающего образования. Изменение форм коммуникации в учебном процессе / под ред. М.А. Гусаковского. Минск: БГУ, 2004. 279 с.
Фихте И.Г. Речи к немецкой нации / пер. А.А. Иваненко. СПб.: Наука, 2009. 349 с.
Хабермас Ю. Идея университета. Процессы обучения // Alma mater. 1994. № 4. С. 9–17.
[Хафф Т.Е.] Социология: призвание или профессия. Интервью с Тоби Хаффом / Проведение интервью и перевод с англ. Ю.А. Прозоровой // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. XVII. № 2. С. 5–25.
Хряков А.В. Герман Геймпель: нетипичная биография немецкого историка // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 2011. № 35. С. 175–194.
Хюсен Т. Идея университета: эволюция, функции, проблемы // Перспективы. Вопросы образования. Ежеквартальный журнал ЮНЕСКО. 1992. № 3. С. 23–40.
Хюсен Т. Образование в 2000 году: исследовательский проект. М.: Прогресс, 1977. 344 с.
Эксле О.Г. Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья / пер. с нем. и предисл. Ю.Е. Арнаутовой. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 360 с.
A History of the University in Europe. Volume III: Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800–1945). Edited by Walter Rüegg. Cambridge, New York etc.: Cambridge University Press, 2004. 776 p.
Crane D. Invisible Colleges: Diffusion of Knowledge in Scientific Communities. Chicago, Il.: University of Chicago press, 1972. 213 p.
Die Idee der deutschen Universitat: Die funf Grundschriften aus der Zeit ihrer Neubegrundung durch klassischen Idealismus und romantischen Realismus. Darmstadt, 1956. 386 S.
Dmitrishin A. Deconstructing Distinctions. The European University in Comparative Historical Perspective // Entremons. UPF Journal of World History. Universitat Pompeu Fabra. 2013. No 5. P. 1–18.
Dore R. Social Evolution, Economic Development and Culture: What it Means to Take Japan Seriously. Edited by D.H. Whitaker. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2001. ix, 317 p.
Galison P. Trading Zone: Coordinating Action and Belief // The Science Studies Reader. Edited by M. Biagioli. London: Routledge, 1999. P. 137–160.
Gibbons М., Limoges C., Nowotny H., Schwatrzman S., Scott P., Trow M. The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: SAGE Publications, 1994. 192 p.
Grant E. Science and the Medieval University // Rebirth, Reform and Resilience: Universities in Transition, 1300–1700. Edited by J.M. Kittelson and P.J. Transue. Columbus, Oh: Ohio State University Press, 1984. Р. 68–102.
Huff T.E. The Rise of Early Modern Science: Islam, China and the West. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. xiv, 409 p.
Huff T.E. The Rise of Early Modern Science: А Reply to George Saliba // Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies. 2002. Vol. 4. No 2. Р. 15–128.
Huff T.E. Rev.: Saliba G. Islamic Science and the Making of the European Renaissance. Cambridge: MIT Press, 2007 // Middle East Quarterly. 2008. Fall. Vol. 15. No 4. P. 77–79.
Huff T.E. What the West Doesn’t Owe Islam // Comparative Civilizations Review. 2012. Fall. No 67. P. 116–129.
Huff T.E. Historical Sociology and Civilizational Analysis // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. XVII. № 2(73). С. 26–54.
Meiners C. Die Geschichte der Entstehung und Entwicklung der Hohen Schulenunseres Erdtheils. Göttingen: J.F. Röwer, 1805. Bd. 1.vi, 415 S.
Mitchell J. St. Silvester and Constantine at the SS. Quattro Coronati // Federico II e l’arte del Ducento italiano, “Atti della III settimana di studio di storia dell’arte medioevale dell’Università di Roma” [15–20 maggio 1978]. Roma, 1980. Vol. 2. P. 15–32.
Moutsios S. University: The European Particularity // Working Papers on University Reform. Department of Education, University of Aarhus. 2012. No 18. February. 24 p.
Ophir A.; Shapin S. The Place of Knowledge: a Methodological Survey // Science in Context. 1991. Vol. 4. No 1. Spring. Р. 3–21.
Rüegg W. Foreword // A History of the University in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Vol. 1. P. xix–xxvii.
Saliba G. Flying Goats and Other Obsessions: A Response to Toby Huff’s “Reply” // Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies. 2002. Vol. 4. No 2. P. 129–141.
Saliba G. Islamic Science and the Making of the European Renaissance. Cambridge: MIT Press, 2007. 315 p.
Saliba G. Seeking the Origins of Modern Science? // Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies. 1999. Vol. 1. No 2. P. 139–152.
Toynbee A.J. The Concentration of Power and the Alternatives before us. The Basil Hicks Lecture delivered to the University of Sheffield, 3rd December, 1953. Sheffield, 1954. 27 р.
References
Avrus A.I. Istoriya rossiyskikh universitetov [The History of Russian Universities]. Moscow: MONF, 2001. 85 p. (in Russian).
Alexandrov D. Mesta znaniya: institutsionalnue peremeny v rossiyskom proizvodstve znaniya [The places of knowledge: institutional changes in the Russian production of knowledge], in: Novoe literaturnoe obozrenie. 2006. No 7. Available at: URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2006/77/alek21.html (accessed 26 may 2016) (in Russian).
Andreev A.Yu. Rossiyskie universitety XVIII – pervoy poloviny XIX veka v kontexte universitetskoy istorii Evropy [Russian universities of 18th – the first half of 19th centuries in the context of the European university history]. Moscow: Znak Publ., 2009. 640 p. (in Russian).
Apryshchenko V.Yu., Ivanesko A.E., Sen’ D.V. Vsegda novoe proshloe [The past is to be new], in: The new past. 2016. No 1. P. 10–24 (in Russian).
Arnautova Yu.E. Istoricheskaya nauka o culture Otto Gerharda Oexsle [The historical study of culture by Otto Gerhard Oexsle], in: Oexsle O.G. Deystvitel’nost’ i znaniye: ocherki social’noy istorii Srednevekovya. Moscow: Novoye literaturnoye obozrenie, 2007. P. 5–22 (in Russian).
Baydenko V.I. Bolonskiy protsess: structurnaya reforma vyshego obrazovaniya Evropy [The Bologna process: the structural reform of European higher education]. Moscow: Issledovatelskiy tsnentr problem podgotovki specialistov, 2001. 128 p. (in Russian).
Ben-David J. Rol’ uchenogo v obschestve [The scientist’s role in society]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2014. 344 p. (in Russian).
Bloch M. Aplogiya istorii ili remeslo istorika [Apology of history or the historian’s craft]. Moscow: Nauka Publ., 1986. 256 p. (in Russian).
Bourdieu P. Sotsiologiya socialnogo prostranstva [Sociology of social space]. Moscow: Institut eksperimentalnoy sociologii; St. Petersburg: Aleteiya Publ., 2007. 288 p. (in Russian).
West. P. Novatorskie universitety Evropy [Innovative universities of Europe], in: Modernizatsiya sistemy upravleniya Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta. Proekt T-JEP-08545-94. 1994–1997. Rostov-on-Don: Internauka, 1997. P. 9–12 (in Russian).
Vishlenkova E.A., Galiullina R.H., Iliina K.A. Russkie professora: universitetskaya korporativnost’ ili professional’naya solidarnost’ [Russian professors: university corporativity or professional solidarity]. Moscow: Novoye literaturnoye obozrenie, 2012. 656 p. (in Russian).
Vishlenkova E.A., Malysheva S.Yu., Sal’nikova A.A. Terra Universitatis: dva veka universitetskoy kul’tury v Kazani [Terra Universitatis: two centuries of the university culture in Kazan]. Kazan: Kazan State University, 2005. 498 p. (in Russian).
Gorky M. Kak ya uchilsya [How did I learn], in: Polnoe sobranie sochineniy v tridtsati tomakh. Moscow: Gospolitizdat, 1949. Vol. 14. P. 76–82 (in Russian).
Gurevich A.Ya. Dvoyakaya otvetstvennost istorika [The dual responsibility of the historian], in: Obschestvennye nauki i sovremennost. 2007. No 3. P. 74–84 (in Russian).
Istoriya Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta (1915–2005) [The History of Rostov State University (1915–2005)] / A.E. Ivanesko, A.I. Narezhnyi, M.V. Pyatikova, V.P. Trut, E.V. Shandulin; otv. red. V.Yu. Apryschenko; Yuzhnyi federal’nyi universitet. Rostov-on-Don: SFedU Publ., 2015. 182 p. (in Russian).
Kamenskiy A.B. Sud’ba I Trudy Gerarda Fridriha Millera (1705–1783) [The destiny and works by historiographer Gerard Frederick Miller (1705–1783)], in: Miller G.F. Sochineniya po istorii Rossii. Izbrannoye. Moscow: Nauka Publ., 1996. P. 374–416 (in Russian).
Karpachev M.D. Voronezhskiy universitet: Vekhi puti. 1918–2013 [Voronezh University: Milestones. 1918–2013]. Voronezh: Voronezh State University, 2013. 560 p. (in Russian).
Karrie G. Kulturnye modely universiteta [Cultural university models], in: Alma mater. 1996. No 3. P. 14–30 (in Russian).
Kulalova I.P. Universitetskoe prostranstvo i ego obitateli: Moskovskiy universitet v istoriko-kulturnoy srede XVIII veka [University space and its inhabitants: Moscow University in the historical and cultural environment of the 18th century]. Moscow: Novyi khronograf, 2006. 336 p. (in Russian).
Mill J.S. Rech ob universitetskom vospitanii [Address on the university education], in: Yumans E. Noveishee obrazovanie: ego istinnye tseli i trebovaniya, Mill J.S. Rech ob universitetskom vospitanii. St. Petersburg: Russkaya knizhnaya torgovlya, 1867. P. 5–71 (in Russian).
Nauka po-amerikanski: ocherki istorii [Science in an American: outline of history]. Moscow: Novoye literaturnoye obozrenie, 2014. 624 p. (in Russian).
Newman J.H. Ideya Universiteta [The Idea of a University]. Minsk: Belorussian State University, 2006. 208 p. (in Russian).
Pushkin A.S. Evgeniy Onegin [Eugene Onegin], in: Pushkin A.S. Polnoye sobranie sochineniy. In 10 Vols. Leningrad: Nauka Publ., 1978. Vol. 5. P. 5–184 (in Russian).
Reingold N. Aspirantskoe obrazovanie i doctorskaya stepen’: evropeiskie modeli i amerikanskie realii [Graduate school and doctoral degree: European models and American realities], in: Nauka po-amerikanski: Ocherki istorii. Moscow: Novoye literaturnoye obozrenie, 2014. P. 15–45 (in Russian).
Repina L.P. Istoricheskaya nauka na rubezhe XX–XXI vv.: social’nye teorii i istoriograficheskaya praktika [Historical scholarship at the turn of 20th–21st centuries: social theory and practice of historiography]. Moscow: “Krug” Publ., 2011. 560 p. (in Russian).
Ringer F. Zakat nemetskikh mandarinov: Akademicheskoe soobschestvo v Germanii, 1890–1933 [Decline of the German mandarins: The academic community in Germany, 1890–1933]. Moscow: Novoye literaturnoye obozrenie, 2008. 648 p. (in Russian).
Uvarov P.Yu. Istoriya srednevekovykh universitetov vo franko-belgiiskoy istoriografii 80-kh godov XX v. (Obzor) [The history of medieval universities in the Franco-Belgian historiography of the early 1980s (Overview)], in: Srednie veka. Issue 50. Moscow: Nauka Publ., 1987. P. 321–333 (in Russian).
Uvarov P.Yu. Parizhskiy universitet I mestnye interesy (konets XIV – pervaya polovina XV v.) [University of Paris and local interests (the end of 14th – the first half of the 15th century)], in: Srednie veka. Issue 54. Moscow: Nauka Publ., 1991. P. 55–71 (in Russian).
Uvarov P.Yu. Intellectualy i intellectual’nyi trud v srednevekovom gorode [Intellectuals and intellectual work in the medieval town], in: Gorod v srednevekovoy tsivilizatsii Zapadnoy Evropy. Vol. 2. Zhizn’ goroda I deyatel’nost’ gorozhan. Moscow: Nauka Publ., 1999. P. 221–263 (in Russian).
Uvarov P.Yu. Universitet [University], in: Slovar, srednevekovoy kul’tury / pod red. A.Ya. Gurevicha. Moscow: ROSSPEN Publ., 2007. P. 544–552 (in Russian).
Uvarov P.Yu. Universitety Rossiiskoy imperii glazami medievista (v zaschitu “idola istokov”) [Universities of the Russian Empire through the eyes of medievalist (in defense of the “idol of origins”)], in: Dialog so vremenem: Al’manakh intellectual’noy istorii. 2007. No 7. P. 207–223 (in Russian).
Universitet i gorod v Rossii (nachalo XX veka) [University and city in Russia (the beginning of the 20th century)] / pod red. Trude Maurer i Alexandra Dmitrieva. Moscow: Novoye literaturnoye obozrenie, 2009. 784 p. (in Russian).
Universitet kak tsentr kulturoporozhdayuschego obrazovaniya [University as a center of culture generating education. Changing forms of communication in the learning process]. Minsk: Belorussian State University, 2004. 279 p. (in Russian).
Fichte J.G. Rechi k nentskoy natsii [The speeches to the German nation]. St. Petersburg: Nauka Publ., 2009. 349 p. (in Russian).
Habermas J. Ideya universiteta. Protsessy obucheniya [The Idea of the university. The processes of learning], in: Alma mater. 1994. No 4. P. 9–17 (in Russian).
[Huff T.E.] Sociologiya: prizvanie ili professiya. Interviu c Tobi Haffom [Sociology: bardship or profession. Interview with Toby Huff], in: Zhurnal sociologii i socialnoy antropologii. 2014. Vol. 17. No 2. P. 5–25 (in Russian).
Khryakov A.V. Hermann Heimpel: netipichnaya biografiya nemetskogo istorika [Hermann Heimpel: atypical biography of the German historian], in: Dialog so vremenem: Al’manakh intellectual’noy istorii. 2011. No 35. P. 175–194 (in Russian).
Husén T. Ideya universiteta: evolutsiya, funktsii, problemy [The Idea of the university: evolution, functions, problems], in: Perspectivy. Voprosy obrazovaniya. Ezhekvartalnyy zhurnal UNESCO. 1992. No 3. P. 23–40 (in Russian).
Husén T. Obrazovanie v 2000 godu; issledivatelskiy proekt [Education in 2000: research project]. Moscow: Progress Publ., 1977. 344 p. (in Russian).
Oexsle O.G. Deystvitel’nost’ i znaniye: ocherki social’noy istorii Srednevekovya [Reality and knowledge: Essays on the social history of the Middle Ages]. Moscow: Novoye literaturnoye obozrenie, 2007. 360 p. (in Russian).
A History of the University in Europe. Volume III: Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800–1945). Edited by Walter Rüegg. Cambridge, New York etc.: Cambridge University Press, 2004. 776 p.
Crane D. Invisible Colleges: Diffusion of Knowledge in Scientific Communities. Chicago, Il.: University of Chicago press, 1972. 213 p.
Die Idee der deutschen Universitat: Die funf Grundschriften aus der Zeit ihrer Neubegrundung durch klassischen Idealismus und romantischen Realismus. Darmstadt, 1956. 386 S.
Dmitrishin A. Deconstructing Distinctions. The European University in Comparative Historical Perspective, in: Entremons. UPF Journal of World History. Universitat Pompeu Fabra. 2013. No 5. P. 1–18.
Dore R. Social Evolution, Economic Development and Culture: What it Means to Take Japan Seriously. Edited by D.H. Whitaker. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2001. ix, 317 p.
Galison P. Trading Zone: Coordinating Action and Belief, in: The Science Studies Reader. Edited by M. Biagioli. London: Routledge, 1999. P. 137–160.
Gibbons М., Limoges C., Nowotny H., Schwatrzman S., Scott P., Trow M. The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: SAGE Publications, 1994. 192 p.
Grant E. Science and the Medieval University, in: Rebirth, Reform and Resilience: Universities in Transition, 1300–1700. Edited by M. Kittelson and P.J. Transue. Columbus, Oh: Ohio State University Press, 1984. Р. 68–102.
Huff T.E. Rev.: Saliba G. Islamic Science and the Making of the European Renaissance. Cambridge: MIT Press, 2007, in: Middle East Quarterly. 2008. Fall. Vol. 15. No 4. P. 77–79.
Huff T.E. The Rise of Early Modern Science: Islam, China and the West. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. xiv, 409 p.
Huff T.E. The Rise of Early Modern Science: А Reply to George Saliba, in: Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies. 2002. Vol. 4. No 2. P. 15–128.
Huff T.E. What the West Doesn’t Owe Islam, in: Comparative Civilizations Review. 2012. Fall. No 67. P. 116–129.
Huff T.E. Historical Sociology and Civilizational Analysis, in: Zhurnal sociologii i socialnoy antropologii. 2014. Vol. 17. No 2. P. 26–54.
Meiners C. Die Geschichte der Entstehung und Entwicklung der Hohen Schulenunseres Erdtheils. Göttingen: J.F. Röwer, 1805. Bd. 1. vi, 415 S.
Mitchell J. St. Silvester and Constantine at the SS. Quattro Coronati, in: Federico II e l’arte del Ducento italiano, “Atti della III settimana di studio di storia dell’arte medioevale dell’Università di Roma” [15–20 maggio 1978]. Roma, 1980. Vol. 2. P. 15–32.
Moutsios S. University: The European Particularity, in: Working Papers on University Reform. Department of Education, University of Aarhus. 2012. No 18. February. 24 p.
Ophir A., Shapin S. The Place of Knowledge: a Methodological Survey, in: Science in Context. 1991. Vol. 4. No 1. Spring. P. 3–21.
Rüegg W. Foreword, in: A History of the University in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Vol. 1. P. xix-xxvii.
Saliba G. Flying Goats and Other Obsessions: A Response to Toby Huff’s “Reply”, in: Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies. 2002. Vol. 4. No 2. P. 129–141.
Saliba G. Islamic Science and the Making of the European Renaissance. Cambridge: MIT Press, 2007. 315 p.
Saliba G. Seeking the Origins of Modern Science? in: Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies. 1999. Vol. 1. No 2. P. 139–152.
Toynbee A.J. The Concentration of Power and the Alternatives before us. The Basil Hicks Lecture delivered to the University of Sheffield, 3rd December, 1953. Sheffield, 1954. 27 р.